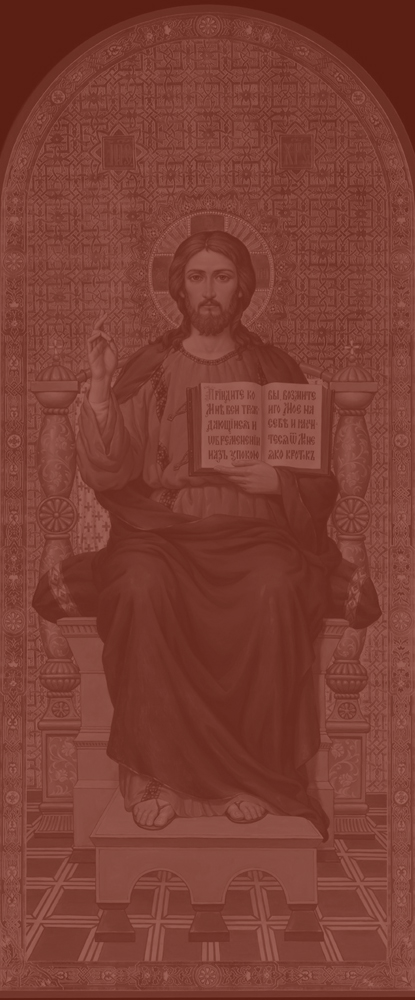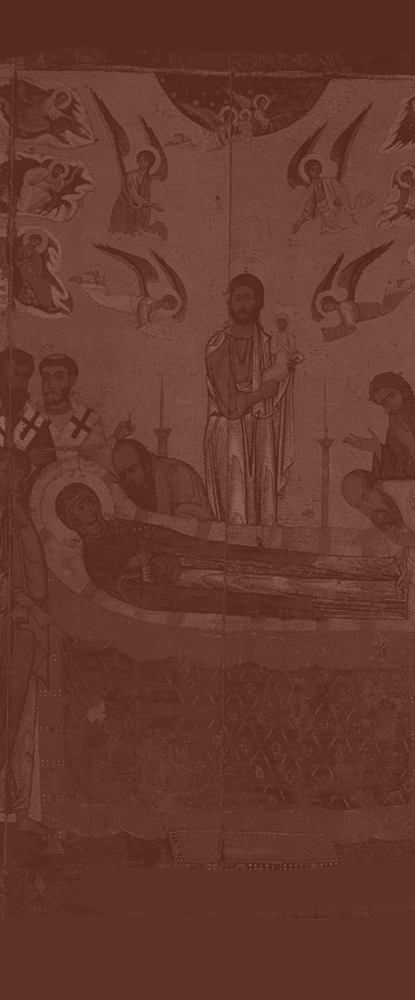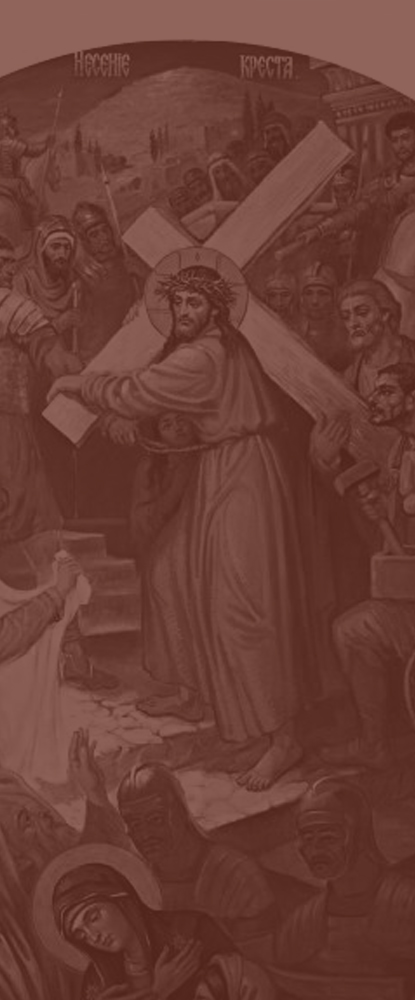Что я могу сказать о Боге?
Что я могу сказать неверующему человеку о Боге?
Что я могу сказать самому себе?
Часто я ничего не могу сказать.
Иногда совсем мало, в другой раз больше, глубже.
Но никогда не бывает ситуации, когда я могу сказать всё. Это абсурдно. Бог – это не та тема, где всё понятно. Бог – это Бог. И он остаётся таковым до тех пор, пока не будет оставаться непознанность, безграничность. Когда верующие люди пытаются всё объяснить, доказать, они сами не понимают того, что унижают Бога. Бога, которого нельзя вместить во всей полноте.
В настоящей вере всегда должно присутствовать сомнение. Сомнение в самом себе. Это благородно, так и должно быть. Способность вместить начинается с невозможности вместить. Я знаю, что я ничего не знаю. Так бывает, когда человек останавливается перед Великим чрезвычайным, превышающим его меру. Но это уже встреча. И это встреча с Ним. С Тем, кто Есть это главное, что мы можем сказать о Нём. Всё остальное только отчасти, в меру духовного возраста.
Поэтому я говорю о Нём шепотом, осторожно, боясь исказить или быть неправильно понятым. Но и молчать я не могу, ибо Он хочет, чтобы я говорил.
Атеист:
– Я хочу задать вам очень простой вопрос. Вы – верующие, если вы действительно верующие. Почему я не вижу в вашей жизни чуда. Почему оно где-то далеко 2000 лет назад. Настолько далеко, что сама объективность его размывается, теряется доверие. Это чудо чьё-то, тех, кто был в далёкой истории, тех, кто не может встать и подтвердить. А где чудо ваше, собственное, сегодняшнее? Хромые ходят, немые говорят, если и что смертное выпьют, не повредит им. Будут говорить другими языками. Иисус Христос сказал: «Кто будет иметь веру с горчичное зерно, будет иметь веру горе сказать двигнись и будет так». Но я не вижу в вас такой веры. А может, вы сами не верующие. Или Христос сказал неправду? Вы меня разочаровываете.
Священник:
– Самое дорогое в диалоге – это искренность. Она сама уже заслуживает уважения. Откровенность побуждает меня ставить вот эти же самые вопросы о вере самому себе. И так бывает часто. Ибо это необходимо, когда человек не играет в веру, а ищет ее от всей души. Слово «ищет» предполагает процесс. Поступательное движение вперед от меньшего к большему. Моя вера мала, ничтожна по сравнению с верой святых. Но она во мне уже есть, и это именно она побуждает меня к движению вверх, к поиску, к умножению ее самой. Скорее всего, все начинается с поиска смысла жизни, когда человек сталкивается с первыми потерями, разочарованиями, с нестабильностью, что приводит к чувству времени. Все проходит. Мы постоянно что-то теряем, и в связи с этим все обесценивается. Если я родился, чтобы умереть, пусть даже прожив долгую жизнь, относительно долгую, ведь в сравнении с вечностью моя жизнь – это миг. В чем ее смысл? В том, чтобы дать жизнь детям, которые тоже умрут и будут задаваться тем же вопросом? Вопросом, который три тысячи лет тому назад задавал себе премудрый Соломон в книге Экклезиаста, можно сказать в итоговом документе своей богатой событиями жизни, – суета сует. Все проходит, ¬– и все суета. Это произведение можно было бы назвать глубоко пессимистическим, если бы не его последние строки: «И так живи, и Бога бойся». В новозаветной транскрипции слово «бойся» можно смело заменить словом «люби». Размышление о смысле жизни это еще не вера, но уже направление в сторону ее. Мы уже более внимательно, пытливо всматриваемся в окружающий мир. Мы еще не видим Бога, но всюду начинаем замечать Его следы, следы Его творчества, ибо, куда ни глянь – видна гармония, мудрость. Я часто слышу в ответ: это природа, и тут же задаюсь вопросом: Природа – это Что или Кто? Премудрую поэзию бытия может творить только Кто. В слове «что» не может быть личного творческого начала. Знаете, когда у человека внутри уже что-то произошло с Богом, часто совсем не хочется ничего доказывать. Спросили – ответил, только и всего. Поэтому в этой теме исследования бытия Бога через Его творчества вокруг нас и внутри нас самих мне достаточно самой первой смысловой точки. Большой взрыв, о котором сейчас много говорят, пытаясь объяснить, откуда все появилось, все из ничего. Кто-нибудь когда-нибудь слышал, чтобы любой взрыв нес в себе вместо разрушения великую гармонию? Нужно очень сильно верить в чудо, чтобы утверждать, что прогремев, взрыв разнес вместо какофонии звуков, скажем, пятую сонату Бетховена, вместо разрушения – стройность и закономерность. Наблюдение за гармонией мироздания рождает в человеке уверенность в наличии Творца, с которым еще не произошла у тебя встреча как с Личностью, Персоной. Но вокруг все, весь космос говорит о Нем. Это уже вера, и в то же время еще не вера, не та вера, которая творит чудеса, все это может быть только началом в поиске Его и к возвращению к самому себе, как образу и подобию.
Вот здесь и начинается самое сложное, ибо эта вера предполагает действие стабильное, поступательное движение в сторону Его. Эта практика называется духовной жизнью, которая предполагает преодоление самого себя, своего несовершенства, ограниченности. Ограниченности видения, переживания. Бог находится именно за этими границами. И только преодолевающий их входит в персональное общение с Ним.
И это уже не просто размышление о смысле жизни, наблюдение за гармонией мироздания, не вера в существование Бога, не вера в Него, а непосредственные отношения с Ним. Этого достигали не многие. Но именно это состояние и называется непосредственно верой, верой, способной к чуду. К сожалению, часто верующие люди живут больше чьим-то опытом, опытом святых, в жизни которых это состоялось сугубо, чрезвычайно. Это о них Господь сказал: «Языки возглаголют новы аще и что смертно испиют не вредит им…» Да, к сожалению, часто это не наш личный опыт, это, скорее, доверие к ним. Но в жизни приходится доверять. Когда ты спрашиваешь дорогу, как пройти, тебе приходится доверять ответу совершенно незнакомого человека, и мы доверяем. Но у меня куда больше доверия к человеку святому, который заслуживает доверия самой своей высоконравственной жизнью. Он настолько порядочен, что ты не можешь ему не доверять. Если вам посчастливится встретить в жизни святого человека, поверьте, эта встреча не просто зародит в вас сочувствие к его словам, у вас появится непреодолимое желание пережить его духовное состояние. Вы просто увидите действительно счастливого человека. Счастливого не внешними обстоятельствами, а внутренним содержанием, которое не зависит от внешнего.
Атеист:
– Простите, можно я вас перебью именно сейчас. Не хочу быть категоричным, поэтому не говорю «ВСЕ». Употреблю слово «многие». Многие члены Церкви совершенно не соответствуют тому, что вы говорите. Я не говорю даже о святости, хотя бы праведность. Не на словах, как вы любите и умеете, а вот самим делом. Наверное, вы скажете, что это все не просто, это целый процесс, вы все-таки движетесь вперед. Но со стороны мы видим другое, кто-то совершенно никуда не движется, потому что занял удобное положение и его все устраивает, зачем напрягаться. А кто-то и не собирался никуда двигаться, для него самого вера – это добрая сказка, которая ни к чему не обязывает, о ней можно говорить, обсуждать, но не более того. Бога нужно столько, насколько Он не мешает нам жить. Почему вы столько готовы говорить о святых и совсем не хотите, даже сердитесь, когда вам говорят об Иудах? Сколько в Церкви таких?
Священник:
– Каждый двенадцатый. Конечно, это аллегория, никто не считал, и, конечно же, это есть. Я понимаю, о чем вы хотите сказать. Я часто слышу этот законный вопрос. Мы понимаем, что в Церкви могут быть нехорошие люди. Но почему Церковь так пассивна в борьбе за самоочищение, за порядочность внутри самой себя? Я слышу эти вопросы и пытаюсь на них отвечать. Ваше переживание о присутствии лицемерия внутри Церкви. В вашем переживании звучит гнев, и я переживаю, но у меня боль. Наше отношение к одному и тому же разной природы. И все закономерно. У вас по-другому и не может быть. Потому что Церковь для вас нечто внешнее, совершенно чужой институт. А для меня это мать родная, поэтому и болит. В связи с тем, что болит, поверьте, я гораздо неравнодушнее вас в эту сторону. Вместо слова «пассивно» я бы употребил выражение «осторожно». Чтобы понять и принять природу этой осторожности, я должен объяснить вам важную деталь. Церковь далеко не либеральна, скорее консервативна в своих традициях, у нас есть своя юриспруденция и система наказания. Так вот самый важный момент: эти карательные средства находятся в руках у таких же грешников, как и те, нравственность которых рассматривается церковным судом. Грешников судят грешники. Но не сознательно закоренелые грешники. А грешники кающиеся. Которые в грехе каждого видят и свою предрасположенность к любому греху, и вот к этому самому. Знаете, как сложно бывает принимать кардинальные решения, вот в таком состоянии, когда ты сам постоянно на суде собственной совести. Как хочется объявить амнистию, дать еще шанс, потому что сам этим пользуешься от Бога, всю жизнь от исповеди к исповеди, не судите, да не судимы будете. Вы можете сказать, что духовенство так долготерпимо только к своим. Священники ежедневно отпускают тысячам людей миллионы грехов. Прощаю и отпускаю – именно эти слова Иисус Христос в Евангелии благословил произносить апостолам, а вслед за ними – духовенству Церкви. Он имел это право от Отца и распорядился им по праву. На каждом суде пред Богом всегда два подсудимых: тот, кого судят и тот, кто судит. Подсудимый должен проявиться в покаянии, судящий – в объективном милосердии, и это очень ответственно. У людей Церкви в истории, и глубокой, и сегодняшней, очень много примеров исправлений. Этот опыт понуждает к долготерпению, снисхождению. И мудрости, которая не спешит. По большому счету, и Бог редко спешит, чаще проявляет долготерпение. И еще один важный момент: в агрессивной кислотной среде появление маленького нежного цветка вызывает восторг и трепет. Это расценивается как чудо, драгоценность. Так вот в нашем несовершенном мире, полном лукавства и греха, рождение одного святого – большая драгоценность, именно потому, что ему пришлось определяться, проявляться в агрессивной среде. Это дорогого стоит. И это цена души каждого из нас. Как мы проявимся в сторону Бога или наоборот.
Атеист:
– Вы много говорите о человеке, что его можно понять, потому что все грешники, даже святые. Но я часто не могу понять самого Бога, особенно ветхозаветного, который благословлял истреблять целые народы. Да и Сам карал жестоко и беспощадно. Это тот же Бог, которого Евангелие называет Бог есть Любовь. Вот это любовь.
Священник:
– Я хочу вам сказать важную вещь. Существует различие между рассудком и разумом. Рассудок – это способность рассуждать, и это присутствует в большей или меньшей степени в каждом из нас. А разум – это знание сути вещей. Первое – это от природы нашего ума, и это благо, но не совершенно. А второе, скорее харизматической природы. Это как откровение, и это от Бога. В вашем случае, как неверующего человека, от природы. Это состояние имел Адам в раю, когда давал имена животным по их сути. Он не исследовал, он просто знал через интуицию. Почему я об этом говорю. Потому что не смогу ответить на все ваши вопросы, удовлетворив вас. Не потому, что ответа нет, нужна еще способность слышать, которая от интуиции. Разные люди, читающие Библию, читают разные книги в связи со способностью понимать один и тот же текст. У одних она переворачивает все сознание и кардинально изменяет жизнь, другие остаются совершенно равнодушными к этой же книге. Один и тот же текст и такие разные действия. К духовным темам нужно подходить духовно, не столько рассудком, а больше интуицией. Это как в музыке, ее не сочиняют логически, должны включиться другие механизмы нашей психики. И только тогда все происходит. Вопросы, которые вы ставите, также волнуют и меня. Пытаясь разрешить их, я ухожу в ту область моего психобытия, в которой возможны ответы. Сложные вопросы не решаются рассудком, это, скорее, область молитвы, когда ты не пытаешься понять, а спрашиваешь у Бога и получаешь ответ. Ответ, который мы способны слышать и принять, иначе – тишина. Вопрос о жестоком Боге Ветхого Завета стоял и передо мной, и я задавал вопросы и не удовлетворялся ответами. В связи с этим перестал спрашивать и прекратил размышлять. Я стал молиться и получил ответ, который меня удовлетворил. Но это мой ответ, ответ мне, моему духовному состоянию, если хотите. Для вас он может не прозвучать в этом случае, прошу прощения, я ограничен в средствах. Все, что мы видим вокруг себя и в бесконечной черноте космоса, – это свет. Все, что не свет, – остается чернотой. Свет, который исходит от источников света, и свет, отраженный от материи. Первый свет можно назвать чистым светом, девственным, ибо он несет информацию только о самом себе. Природа второго, отраженного, изменяется, в него входит информация объекта, который его отразил, поэтому, собственно, мы его и видим нашими глазами, это уже не чистый девственный свет, а скорее синтез его и отраженного объекта. Библия часто говорит о Боге, как о Свете. Аллегория это или действительная деталь Его природы. Для меня удобно сейчас употреблять именно это понятие. Бог как чистый девственный Свет движется в бытие этого мира, который Он создал в границах времени и пространства, и этот мир Его отражает, отражает, наполняя информацией о самом себе, как он есть в данный момент исторического времени. В чистую, девственную идею Бога о мире входит сегодняшнее состояние этого мира, состояние свободного человека, по своей воле склоняющегося к добру или злу. Строгий Бог Ветхого Завета и Бог Любви Нового – один и тот же. В Нем Самом нет противоречий, все дело в человеке, который сам не есть свет, а всего лишь отражающий объект, наделенный свободной волей. Есть понятие, что Бог пронизывает Собою даже ад, но ад остается адом. Так святой человек в состоянии богоподобия минимально преломляет девственный свет Божества, входя в Его природу, тогда как падший, грешный наполняет девственную природу информацией о самом себе. И это происходит как в отдельных личностях, так и в целых народах определенной исторической эпохи.
Атеист:
– Вот так всегда. Я подозреваю, что вы, когда вам нечего сказать, начинаете говорить очень сложно, чтобы запутать, заморочить голову. Я не удовлетворен.
Священник:
– Не сердитесь на меня. Это не от лукавства, я искренен перед вами. Просто бывают вещи, которые трудно объяснить, их можно только прожить. Как я могу объяснить человеку, который ни разу в жизни не любил, что такое любовь. Мне придется только вздыхать, разводить руками, пытаться подобрать понятия, и, в конце концов, признать, что это не возможно. Вы должны это прожить. Без личного опыта мы постоянно будем приходить в тупик. Христианство – это не теория, это практика, сама жизнь. Наверное, с этого и стоило бы начинать. А вообще все это не главное, я хочу делиться с вами не информацией, а самой любовью, как энергией Божества. В этом главное чудо и приобретение моей веры. Если во мне будет любовь, не деликатность, воспитанность, добрая эмоциональность, а сама любовь в высшем ее проявлении – до любви к врагам, – во мне будет Бог, и здесь прекращается слово, только легкая улыбка и добрый взгляд в вашу сторону. Просто мы с вами разные, можно сказать, параллельные. Вы живете в своем мире, который для вас объективен. Я вижу и чувствую по-другому. И я очень счастлив. Однажды один философ сказал: если бы не было Бога, Его стоило бы выдумать, потому что без Него все рушится. Он как скрепа, держащая весь смысл бытия. Мне не нужно Его выдумывать, Он есть в моей жизни. И я очень счастлив настолько, что не хочется спорить, только легкая улыбка и добрый взгляд в вашу сторону. Аминь.
Протоиерей Сергий БАРАНОВ.
Апрель 2018 г.